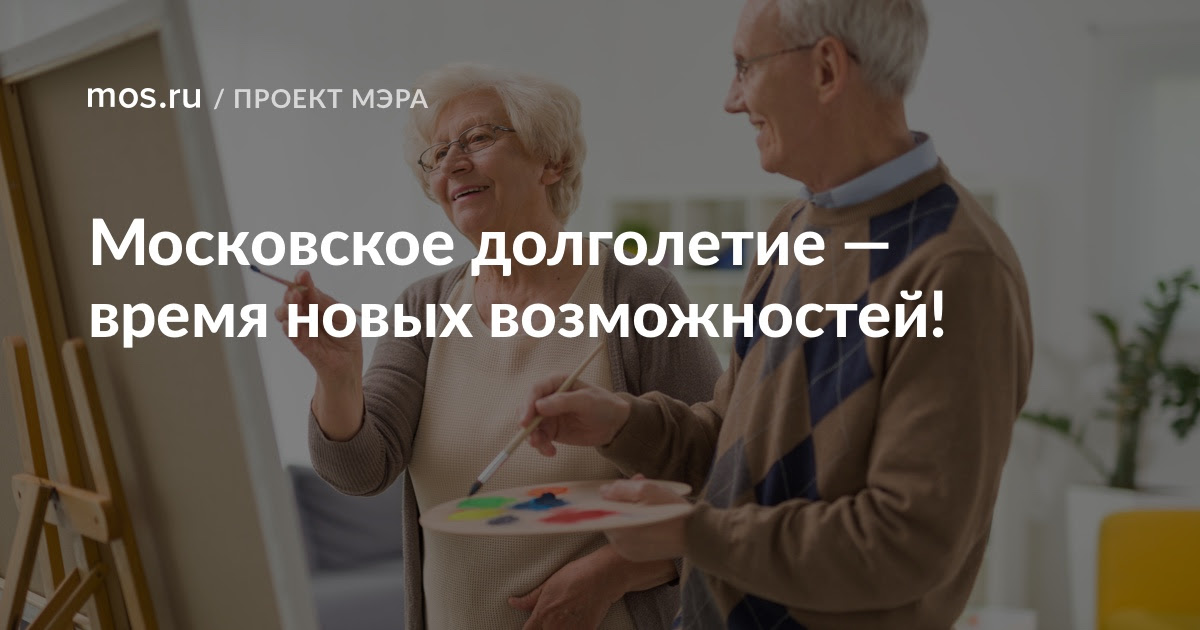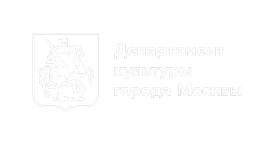100-летие со дня гибели А.С. Пушкина: Презентация четырехтомника писем П.А.Флоренского из Соловецкого лагеря особого назначения.
15 июня, четверг, 19.00
Пречистенка, 12/2. Выставочные залы ГМП
Творчесткие встречи в Садовом павильоне Государственного музея А.С. Пушкина
Специальный музейный проект
 100-летие со дня гибели А.С.Пушкина:
100-летие со дня гибели А.С.Пушкина:
Презентация четырехтомника писем П.А.Флоренского из Соловецкого лагеря особого назначения
(издательства: «Международный центр Рерихов», «Серебро слов»)
Выступает Флоренский Павел Васильевич, профессор, академик РАЕН, член Союза писателей России
Вход по билетам музея
Пречистенка, 12/2. Выставочные залы ГМП
Творчесткие встречи в Садовом павильоне Государственного музея А.С. Пушкина
Специальный музейный проект
 100-летие со дня гибели А.С.Пушкина:
100-летие со дня гибели А.С.Пушкина:Презентация четырехтомника писем П.А.Флоренского из Соловецкого лагеря особого назначения
(издательства: «Международный центр Рерихов», «Серебро слов»)
Выступает Флоренский Павел Васильевич, профессор, академик РАЕН, член Союза писателей России
Вход по билетам музея
Из письма П.А. Флоренского:
«…Получена газета, наполненная Пушкиным. Можно чувствовать удовлетворение, когда видишь хотя бы самый факт внимания к Пушкину. Для страны важно не то, что о нем говорят, а то, что вообще говорят; далее Пушкин будет говорить сам за себя и скажет все нужное. Но с этим удовлетворением связывается горечь, неразумная горечь о судьбе самого Пушкина. От нее не умею отделаться. Но называю неразумной, потому что на Пушкине проявляется лишь мировой закон о побивании камнями пророков и постройке им гробниц, когда пророки уже побиты. Пушкин не первый и не последний: удел величия – страдание, – страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так – вполне ясно; это – отставание по фазе: общества от величия и себя самого от собственного величия, неравный, несоответственный рост, а величие есть отличие от средних характеристик общества и собственной организации, поскольку она принадлежит обществу. Но мы не удовлетворяемся ответом на вопрос «почему?» и хотим ответ на вопрос «зачем?», «ради чего?». Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем безкорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Внутренно сознаешь его непреложность и всеобщность, но при столкновении с действительностью, в каждом частном случае, бываешь поражен, как чем-то неожиданным и новым. И при этом знаешь, что не прав своим желанием отвергнуть этот закон и поставить на его место безмятежное чаяние человека, несущего дар, который не оплатить ни памятниками, ни хвалебными речами после смерти, ни почестями или деньгами при жизни. За свой же дар величию приходится, наоборот, расплачиваться своей кровью. Общество же проявляет все старания, чтобы эти дары не были принесены. И ни один великий никогда не мог дать всего, на что способен – ему в этом благополучно мешали, все, всё окружающее. А если не удастся помешать насилием и гонением, то вкрадываются лестью и подачками, стараясь развратить и совратить. Кто из русских поэтов, сколько-нибудь значительных, был благополучен? Разве что Жуковский, да и то теперь открываются интриги против него, включительно до обвинения в возглавлении русской революции. Философы – в таком же положении (под философами разумею не тех, кто говорит о философах, но кто сам мыслит философски), т.е. гонимые, окруженные помехами, с заткнутым ртом. Несколько веселее судьба ученых, однако лишь пока они посредственны. Ломоносов, Менделеев, Лобачевский – не говорю о множестве новаторов мысли, которым общество не дало развернуться (Яблочков, Кулибин, Петров и др.), – ни один из них не шел гладкой дорогой, с поддержкой, а не с помехами, всем им мешали и, сколько хватало сил, задерживали их движение. Процветали же всегда посредственности, похитители чужого, искатели великого, – процветали, ибо они переделывали и подделывали великое под вкусы [и] корыстные расчеты общества.
Недавно я позавидовал Эдисону. Как у него было использовано время и силы – благодаря наличию всего всего* материального и, главное, дар человечеству…»
«…Получена газета, наполненная Пушкиным. Можно чувствовать удовлетворение, когда видишь хотя бы самый факт внимания к Пушкину. Для страны важно не то, что о нем говорят, а то, что вообще говорят; далее Пушкин будет говорить сам за себя и скажет все нужное. Но с этим удовлетворением связывается горечь, неразумная горечь о судьбе самого Пушкина. От нее не умею отделаться. Но называю неразумной, потому что на Пушкине проявляется лишь мировой закон о побивании камнями пророков и постройке им гробниц, когда пророки уже побиты. Пушкин не первый и не последний: удел величия – страдание, – страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так – вполне ясно; это – отставание по фазе: общества от величия и себя самого от собственного величия, неравный, несоответственный рост, а величие есть отличие от средних характеристик общества и собственной организации, поскольку она принадлежит обществу. Но мы не удовлетворяемся ответом на вопрос «почему?» и хотим ответ на вопрос «зачем?», «ради чего?». Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем безкорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее. Внутренно сознаешь его непреложность и всеобщность, но при столкновении с действительностью, в каждом частном случае, бываешь поражен, как чем-то неожиданным и новым. И при этом знаешь, что не прав своим желанием отвергнуть этот закон и поставить на его место безмятежное чаяние человека, несущего дар, который не оплатить ни памятниками, ни хвалебными речами после смерти, ни почестями или деньгами при жизни. За свой же дар величию приходится, наоборот, расплачиваться своей кровью. Общество же проявляет все старания, чтобы эти дары не были принесены. И ни один великий никогда не мог дать всего, на что способен – ему в этом благополучно мешали, все, всё окружающее. А если не удастся помешать насилием и гонением, то вкрадываются лестью и подачками, стараясь развратить и совратить. Кто из русских поэтов, сколько-нибудь значительных, был благополучен? Разве что Жуковский, да и то теперь открываются интриги против него, включительно до обвинения в возглавлении русской революции. Философы – в таком же положении (под философами разумею не тех, кто говорит о философах, но кто сам мыслит философски), т.е. гонимые, окруженные помехами, с заткнутым ртом. Несколько веселее судьба ученых, однако лишь пока они посредственны. Ломоносов, Менделеев, Лобачевский – не говорю о множестве новаторов мысли, которым общество не дало развернуться (Яблочков, Кулибин, Петров и др.), – ни один из них не шел гладкой дорогой, с поддержкой, а не с помехами, всем им мешали и, сколько хватало сил, задерживали их движение. Процветали же всегда посредственности, похитители чужого, искатели великого, – процветали, ибо они переделывали и подделывали великое под вкусы [и] корыстные расчеты общества.
Недавно я позавидовал Эдисону. Как у него было использовано время и силы – благодаря наличию всего всего* материального и, главное, дар человечеству…»